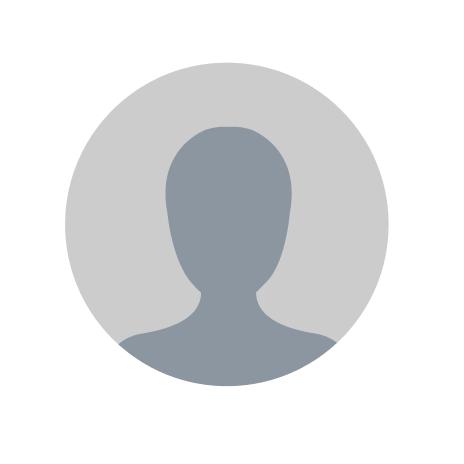Петр Подгорнов, генеральный директор «Равис – птицефабрика Сосновская»: «Если человек использует меньше, чем ему дано природой, он становится глубоко несчастным. В этом смысле я человек счастливый»

Субъективное, человеческое в последнее время как-то не особо в чести и у самих журналистов, и у их собеседников. Чаще просят написать об успехах, цифрах, результатах. Это нужно и важно, не спорю. Вроде и повод обязывает: «Равису» – 25 лет. Но, пожалуй, именно после встречи с Петром Подгорновым захотелось рассказать не только об этом. Мы, конечно, много говорили о его предприятии, о проблемах отрасли, о вступлении в ВТО. Все это будет в тексте. Но самым главным, на мой взгляд, здесь был человек… Впрочем, судите сами.
О насущном
Полтора года назад, когда состоялась первая встреча с Петром Подгорновым, главной проблемой, волновавшей отечественных птицеводов, был объем импорта птицы и постоянно растущие на него квоты. Этот вопрос не решен до сих пор, но о новом испытании для отечественных производителей – вступлении России во Всемирную торговую организацию – тогда еще только говорили…
– Петр Александрович, с момента последней встречи с вами многое произошло: появились нацпроекты, страна вступила в ВТО. Вы можете оценить, в каком состоянии сейчас находится сельское хозяйство и ваша отрасль?
– В целом сельское хозяйство области на фоне других регионов смотрится достаточно неплохо. Если говорить о положительных моментах, то по темпам развития птицеводства мы находимся в пятерке лидеров. В животноводстве в этом году удалось переломить отрицательную тенденцию сокращения поголовья, тогда как по всей стране пока ситуация обратная. Поворот стал возможным во многом благодаря поддержке областных властей. К примеру, после засухи 2004 года крестьяне просто начали вырезать скот. Процесс остановили только губернаторские субсидии на каждое животное. Это позволило должникам рассчитаться с долгами, а тем, у кого не было долгов, – начать покупать технику и скот.
Положительно сказалось и то, что власти оплачивают процентные ставки по займам: федеральные на 2/3, а областные на 1/3. Последнее – тоже инициатива губернатора. К тому же банковский сектор в рамках нацпроекта, нацеленного на развитие фермерского движения, предоставляет крестьянам льготные кредиты. То есть сейчас, по сути, местные фермеры и сельхозпредприятия получают бесплатные деньги на свое развитие.
Но есть и серьезные проблемы. Например, вопрос, который постоянно поднимается на аграрном комитете ЗСО, заключается в том, что те же крестьяне, получив деньги на развитие, не могут их вернуть, потому что не могут продать скот. Многие переработчики – мясные цеха и комбинаты – как не вели, так и не ведут закуп у отечественных производителей. Они берут дешевую импортную продукцию, которая существенно субсидируется Евросоюзом. Логика здесь понятна. К тому же переработчик не хочет иметь дело с десятком фермеров, когда есть один поставщик, тем более некоторые крупные производители выходят напрямую на биржи и покупают там. Проблему иначе, как на федеральном уровне с помощью пошлин, субсидий, субвенций не решить. И в этом смысле мы пожинаем плоды периода, когда всю страну решили накормить с одной нефтяной скважины.
– То есть?
– Вспомните, до момента, когда всех отпустили в рынок, поставки и сбыт были расписаны. А что получилось дальше. Производители кормов увидели, что птицеводам никуда от них не деться, и в несколько раз увеличили цену –оборотные средства фабрик ушли на корма. Мало повысили цены, начали экономить на качестве, поэтому все до сих пор помнят синих куриц. А ведь они такие были не по происхождению, а по типу кормления.
В животноводстве то же самое. Переработчики посмотрели, что крестьянам некуда идти, и установили такие цены, что воспроизводство стало просто невозможно: крестьянин не мог покупать ни тракторов, ни техники, ни кормов, поэтому был вынужден выгонять свою скотину на улицу с ранней весны до поздней осени питаться подножным кормом, в итоге коровы падали в стойлах. А все деньги колхозов, естественно, ушли на переработчиков, которые на этом поднялись. И если сейчас говорят, что сельское хозяйство – это дыра. Так оно и есть. Это дыра, через которую были выкачаны все ресурсы, вкладывавшиеся в отрасль на протяжение семидесяти с лишним лет. Понятно, что, получив колоссальные оборотные средства и посмотрев на местное худосочное, комбинаты и цеха начали покупать дешевое сырье за границей. В результате отрасль фактически развалилась.
Правда последние два года показали, насколько рискованно не иметь собственной базы. Из-за коровьего бешенства в европейских странах уничтожили колоссальное количество поголовья скота, естественно, резко подскочили цены на внешнем рынке, а на внутреннем рынке, раз свою сырьевую базу уничтожили, возник дефицит. Поэтому сегодня переработчики устремились в агросектор в качестве инвесторов. Крупные федеральные структуры, чтобы обеспечить себя сырьем, строят сейчас комплексы в Липецке, в Белгороде, в Рязани, в Краснодаре, в Ставропольском крае.
Однако остается другой серьезный момент, касающийся как раз крупных производителей, прежде всего, птицеводов. На сегодняшний день так до конца и не урегулированы вопросы импорта, квот и сверхквот. К примеру, в России потребление мяса птицы составляет порядка 2,5 миллиона тонн в год и постепенно растет. Но квоты на импорт тоже ежегодно растут и сегодня приближаются к 1,2 миллиона тонн, кроме того, помимо установленных квот завозится еще около четверти этих объемов – по серым схемам. В то же время российские птицефабрики сами сейчас производят порядка 1,2 миллиона тонн продукции, и в целом российское птицеводство демонстрирует рост на уровне 18-20 % в год. В результате уже сейчас есть проблема перепроизводства, а нерешенный вопрос с импортом становится тормозом для отечественного агробизнеса.
– Получается, что открытие рынков в рамках вхождения в ВТО только усугубляет эту ситуацию?
– Можно это рассматривать как позитив в том смысле, что мы попадаем под общие правила игры. Если сегодня у нас агросектор напрямую практически не субсидируется, то мы вправе возбудить антидемпинговое расследование по вопросу субсидирования в странах, входящих в ВТО. И тем самым на основе международного права ввести ограничения по этим поставщикам. Это меня немного радует. Обнадеживает и то, что уровень финансовой защиты собственного производителя, зафиксированный в условиях вступления в ВТО, отличается в разы от того, что было в последние годы. Не факт, что мы действительно это получим, но есть хоть какая-то надежда.
С другой стороны, вступление в ВТО – достаточно большой риск. И если повторится то, что было в 90-е, то нас ждут тяжелые времена. Ведь в мире не найдешь примера, чтобы государство открывало границы и не брало ни копейки пошлин. Обычно делается наоборот, если открывается какая-то отрасль, то вводятся, к примеру, компенсационные пошлины, когда помимо установленной части есть добавочная, идущая на развитие этой отрасли или поддержание людей, в ней занятых. Представьте, какие бы деньги получило село, если бы часть от потока, прошедшего за это время через границы, целенаправленно тратилась на обновление техники, скота, создание племенных центров. Тогда бы сложилась нормальная конкурентная среда, когда свой производитель может спокойно сосуществовать с тем, кто приходит на его рынок. И село было бы сейчас совсем на другом уровне. Хотя, я думаю, что ситуация 90-х уже не повторится.
– Почему?
– Потому что люди не хотят повторения. Они будут протестовать – ходить на митинги и требовать защиты своих интересов от правительства. В этом году был такой момент, который, правда, не очень освещался в прессе, когда весной птицеводы России собрались у здания МЭРТа, чтобы протестовать против политики, проводимой ведомством Грефа. Были представлены все регионы: Белгород, Пенза, Рязань, Иваново, Екатеринбург, Челябинск… Акция касалась свободной зоны Калининград, через которую помимо кармана государства – оно от этого ничего не получило – прошло порядка 180 тысяч тонн «серой» курятины. Там поставили мощности по переработке птичьих скелетов, идущих как отходы производства, и эти мощности начали штамповать фарш из костей. А нынешние технологии позволяют с помощью добавок и прочего сделать так, что покупатель не сможет определить, из чего действительно сделан продукт. В итоге этот фарш захлестнул всю Россию. Кроме того, в Калининграде было установлено оборудование, упаковывающее импортные окорочка в российскую тару, на которой ставилось имя отечественного производителя. Если учесть, что сегодня покупатель ориентирован именно на него, то все это вылилось в колоссальный и беспрецедентный обман.
– И этот протест как-то повлиял на политику министерства?
– Повлиял. По Калининграду ужесточили требования, изменили ввозные пошлины и учет. Сегодня эта зона более или менее находится в рамках нормативных квот. И хотя через нее до сих пор завозится «серое» мясо, но того объема и беспредела уже нет.
– Исходя из сказанного, выходит, что одно из главных конкурентных преимуществ – лояльность потребителя – сегодня все же у местного производителя?
– Да, так оно и есть. Не случайно ведь импортеры в этом году сами ограничили поставки где-то на 30 %. С одной стороны, квоты на импорт увеличиваются, с другой стороны, потребитель все чаще отдает предпочтение отечественным продуктам. В результате трейдеры несут огромные убытки, потому что всё – склады, инфраструктура и прочее – забито нереализованным товаром. Из-за негибкой политики по квотам и затоваривания рынка мы тоже в этом году понесли убытки – отрасль потеряла несколько миллиардов рублей. В подобных условиях логично было бы квоты сократить, а отечественные птицеводы, не увеличивая цену на свой продукт, заполнили бы эту нишу легко и безболезненно.
– Некоторые считают, что квоты нужно вообще отменить. Как вы на это смотрите?
– Полностью отменять квоты нельзя, потому что они сдерживают рост цен на отечественный продукт. Они должны стать инструментом гибкого влияния государства на отрасль. Если цены у местных птицеводов растут гораздо быстрее, чем цены на энергоносители и прочее, тогда стоит квоты увеличить, а субсидирование по кредитам уменьшить и наоборот. Просто должно быть понимание со стороны федерального правительства. Но этот вопрос сложен тем, что 70 % импорта птицы приходится на США. Для них же поставки на российский рынок составляют около 30 % от всего экспорта курятины. Им есть за что биться. И, скажем, на переговорах о вступлении в ВТО этот вопрос в очередной раз стал разменной монетой…
О праздничном
Накануне 25-летия сосновской птицефабрики, пережившей убийство ее генерального директора в середине 90-х, налоговый скандал и полную остановку на три года, обойти разговором ее воскресение из мертвых было невозможно. Петр Подгорнов до сих пор считает, что этим она обязана предпринимательскому таланту губернатора Петра Сумина.
– Сегодня мало кто оценил по-настоящему предпринимательский шаг Петра Ивановича. В 2000 году он вложил в наше предприятие порядка 60 миллионов бюджетных средств, при этом живыми деньгами мы получили только треть и отнюдь не единовременно. На остальную сумму фабрике выделили племенное яйцо Еткульского племзавода, задолжавшего бюджету, и комбикорма. Так вот, эти вложения окупились всего за год, вернувшись в бюджет деньгами и продукцией, которую мы поставляли в социальную сферу. Если к началу работы у предприятия были долги и перед бюджетом (около 30 миллионов), и перед партнерами (около 120 миллионов), сейчас об этом никто и не вспоминает. Более того, разные отчисления предприятия составили уже около 200 миллионов рублей, а ведь прошло всего лишь 5 лет. За это время фабрика стала одним из лидеров в своей отрасли. Только в этом году будет произведено 34 тысячи тонн мяса цыплят-бройлеров. Такие объемы не планировались даже при проектировании фабрики, и таких объемов на одной площадке в России сейчас не производит никто. Даже у лидеров отрасли – Белгородских холдингов – при их объемах в 170-190 тысяч тонн есть несколько площадок. К тому же это структуры федерального уровня, за которыми стоят банки, энергетические и строительные компании. А за нами – только правительство области и коллектив.
– Интересно, помимо решения губернатора были другие факторы, которые позволили сделать такой рывок? Например, он был бы возможен в животноводстве?
– Здесь действительно есть ряд объективных и субъективных причин. Объективно, птицеводство – это самый удачный проект компартии и государства в рамках агропромышленного комплекса. Ни одна отрасль АПК за годы советской власти не получала такого развития и не окупалась в таких темпах. К примеру, оборудование для птицеводства, зарождавшегося в 60-е годы, создавалось авиационной промышленностью по поручению ЦК КПСС и Совмина, а потому закладывались технологии энергоемкие и сводящие присутствие человека к минимуму. Если проводить аналогии, то по уровню оснащенности животноводство и растениеводство – это авиация, а птицеводство – космические технологии. Именно такой уровень технологий и позволил сконцентрировать в отрасли самый высококвалифицированный персонал, который затем обеспечил ее развитие. Есть еще одна объективная причина: в птицеводстве, по сравнению с другими отраслями АПК, наиболее короткий срок оборота капитала – весь цикл составляет 70 дней.
Объективной причиной стал и дефолт 1998 года. После открытия границ в середине 90-х импортные окорочка под видом гуманитарной помощи похоронили отечественное птицеводство. Большая часть фабрик остановилась, а исключением стали лишь те предприятия, которые поддержал региональный бюджет, как в Свердловской области. Так вот, в 1998 году обвал рубля оказался как раз на руку птицеводам: импорт резко подорожал, поэтому появилась надежда возродить собственное производство.
Среди субъективных причин, повлиявших на восстановление предприятия, было, во-первых, решение губернатора, во-вторых, то, что несмотря на трехлетнюю остановку фабрики работники не позволили ее растащить. А ведь приезжали команды, чтобы вырезать оборудование, и долги предприятия позволяли даже фундамента не оставить. Но люди ходили и охраняли. Поэтому, когда появились подходящие условия, начали работать.
– Насколько я знаю, сейчас у «Рависа» в собственности несколько сельхозпредприятий. Вы создаете свою сырьевую базу?